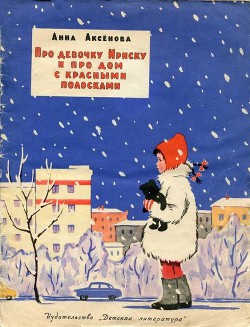знал, если не шутил. Но при чем тут Ирена? Нет, наверное, это все-таки последствия ночной «операции». Ох, скорее бы все кончилось: все-таки любовница — это не жена.
У Ирены с самого утра все не ладилось, все валилось из рук. Как в ожидании какой-то беды. Проснулась очень рано. Собственно, она и не спала по-настоящему после ухода Никиты Михайловича, дремала… Нервы были возбуждены. Не было еще и пяти, когда она явственно услышала, что где-то рядом плачет ребенок. Совсем грудной: «Уааа, уааа». Такой плач любят передразнивать мальчишки. Ирена подумала, не балуется ли где-нибудь тут опять Никита Михайлович. Но не мог же он так глупо шутить, а главное, плач был настолько горьким, что ясно было — настоящий. Она лежала, вслушиваясь, пытаясь понять, откуда плач, не в саду же у нее, в самом деле. А плач вдруг стал словно таять, тише, тише, и скоро его не стало слышно, одна тишина.
Присниться это не могло: она уже окончательно проснулась и даже на часы посмотрела, зажгла спичку. И оттого, что этому не было объяснения, в голову полезли всякие мысли.
Но что же все-таки стряслось у Никиты Михайловича? Теперь все, что касалось его, касалось и ее.
Было уже десятое января. Четырнадцатого они собирались в загс.
Никита Михайлович пришел неожиданно, она даже не готова была, не причесана как следует, в фартуке. Но вряд ли он заметил что, да и она забыла обо всем на свете, когда увидела его: он был неузнаваем. Куда делся его обычный спокойный вид? Глаза безостановочно блуждали, губы подергивались какой-то косой беглой усмешкой, совсем не свойственной ему. Речь была сбивчива, тороплива…
Все началось с дочки двоюродной сестры. Она ездила к мужу в госпиталь, в Грузию. Вернулась вчера поздно, зашла к нему, а его не было, он в это время… Там, в Грузии, племянница встретила знакомую, и та сказала, что видела Таню. Совсем недавно. Она сама орловская, ездила туда к матери. С Таней она мало знакома и не знала, что ее считали погибшей, она с ней не разговаривала, просто видела на улице и ничего не спросила. Ведь если правда Таня осталась жива, то, может, тогда жива и Света. Тогда ей уже двенадцать лет. Но это, конечно, какая-то ошибка. Он сам был, лично был у своего дома. Видел развалины, спрашивал у соседей, и ему сказали, что никто не спасся, потому что бомбили ночью, когда все спали. Он был в городе не один раз. Ходил, расспрашивал. Ведь кто-нибудь бы да знал… Нет, конечно, это ошибка. Как однажды он сам ошибся, принял чужого человека за старого друга.
Он был почти в бреду. Ирена помогла ему раздеться, уложила его в постель, достала спирт.
Он приникал к ней, как несчастный ребенок. И она жалела его, как сестра, как мать, понимая, что у него творится в душе.
Но ей хотелось, чтобы он знал, видел, что она жалеет и понимает его. И потому, отирая ему платком лицо, она отирала и свое лицо. Заставляя его выпить холодной воды, пила воду и сама. И в то же время, сочувствуя ему, она сердилась: он — мужчина, нельзя уж так распускаться. Тяжело — понятно, как обухом по голове, но за целый день можно было и успокоиться, Он же должен понимать, что то — невозвратно, с тем покончено навсегда. Не только потому, что у него есть теперь она — Ирена, но и потому, просто потому, что нельзя же воскрешать давно похороненное. Это ненормально. Даже она, женщина, вернись к ней сейчас Виктор (который, кстати, не «умирал»), она и то сто раз бы подумала, сходиться ли снова с ним. И это несмотря на то, что она его знает как облупленного, а Никита для нее — темный лес. Еще неизвестно, каким он будет в семейной жизни.
Конечно, если дочка его жива, это — другое дело. Тут ничего не поделаешь. Можно написать ей, а попозже Ирена отпустит его съездить повидаться с нею. Придется помогать, никуда не денешься. И это кстати, будет выглядеть очень порядочно: сам разыскал, чтобы платить алименты, не то что некоторые отцы, которых годами разыскивает милиция. Да и к Ирене будет другое отношение, каждый ведь понимает, что от нее зависело, будет он разыскивать свою прежнюю жену и дочь или нет.
Если девочке сейчас двенадцать, то… шесть лет по двадцать пять процентов. М-да… Ну ничего, все-таки у них на двоих две зарплаты, а не одна. Да и вдвоем они займутся наконец садом, огородом…
Ирена говорила ему какие-то ласковые слова, уговаривала, бормотала, как маленькому. Он поддакивал ей, обнимал с каким-то отчаянием, и Ирена ни в чем не отказывала ему. В эту ночь она сама, никогда не бывшая пылкой женщиной, не хотела отрываться от него. Что это было? Неужели предчувствие того, что он у нее последний?
Под утро она забылась коротким, тревожным сном. А когда они встали, она увидела перед собой чужого человека, холодного, спокойного и даже чуточку враждебного, как будто он заранее давал ей понять, что никакие слова, никакие ее уговоры на него не подействуют. Было видно, что он принял решение уехать.
Уходя, он сделал то, чего не делал ни разу — попрощался с ней за руку. Ирена похолодела: она поняла, что он уже не любит ее.
Потянулись долгие, угрюмые дни.
По утрам, когда подходило время его ежедневных утренних звонков, она вся сжималась. Казалось, что сейчас произойдет чудо, Она уже знает его, он не прочь пошутить. Может быть, в эти минуты он тоже сидит у телефона и, как она, поглядывает на часы. Представляет себе, как он удивит ее. Как ни в чем не бывало, как будто никуда он и не уезжал, скажет сейчас: «Доброе утро». И она, она тоже… нет, она не выдержит — заревет в трубку. У нее уже сейчас мокрые глаза.
Проходили минуты, и надежда, дрожащим комочком сидевшая в сердце, проваливалась куда-то в пустоту. Нет, не бывает чудес.
Как ненавистны ей стали возвращения домой, где совсем недавно она встречала его, готовилась к встрече с ним. Как она тогда не понимала, что счастлива? Понимай она это, разве так бы она тогда жила? Разве допустила бы, чтобы он ушел от нее? Она бы так опутала его, так оплела всем своим существом — он не смог бы оторваться от нее. Только с кровью. Только с жизнью.
Господи, зачем она прикидывала, рассчитывала, зачем
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)